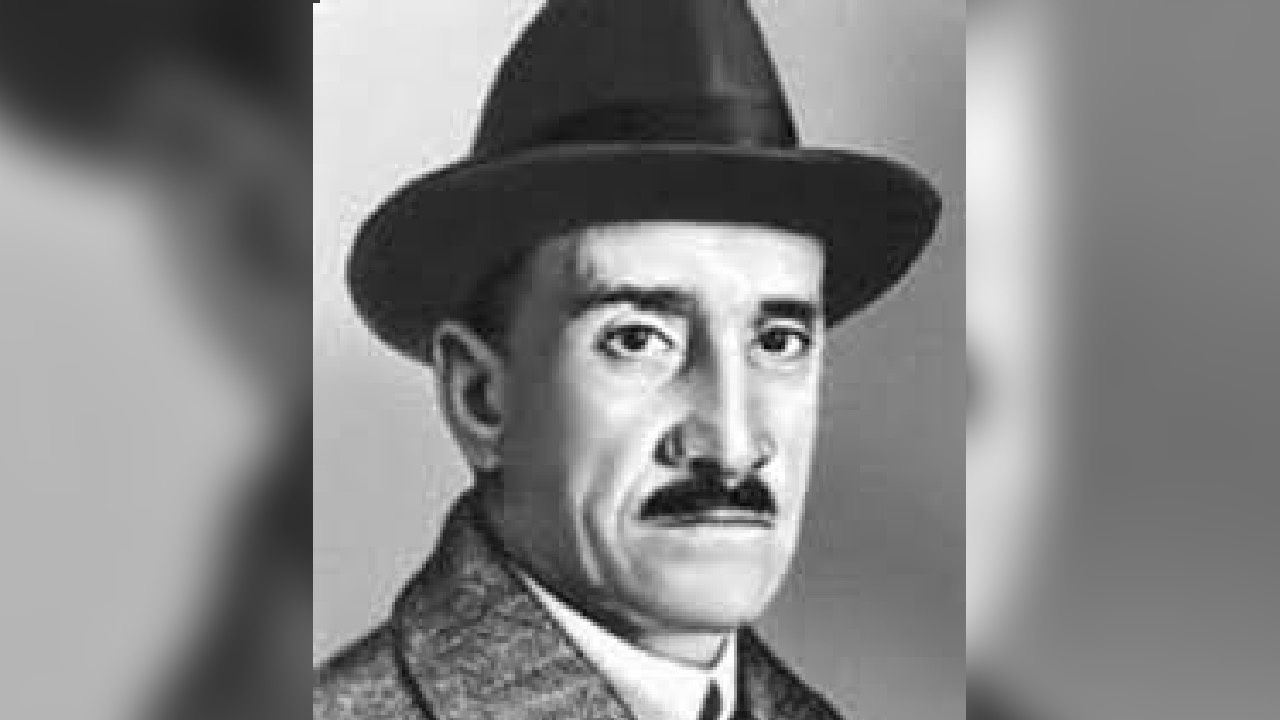БЕСПРОСВЕТНЫЕ СТРАНСТВИЯ
В юности Александра Грина тяготила атмосфера провинциального города. Он называл Вятку, где провел детство, «болотом предрассудков, лжи, ханжества и фальши». Начитавшись приключенческих романов, насмотревшись на соседского Сережу, приезжавшего на побывку из Херсонской школы юнг, он просто грезил о море. И отправился в Одессу, чтоб стать моряком.
МОРЕ В МЕЧТАХ И НАЯВУ
Образ моря так или иначе присутствует почти во всех произведениях Грина. Для него морское пространство – это, прежде всего, мечта о нем. В его текстах и в его сознании море – извечная красота, бескрайняя территория невероятных приключений. Но есть у образа моря и второй план – это место борьбы добра со злом, оно сопряжено с духовным измерением. Такими же непостижимыми казались юноше и морские путешественники: «все моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого одежде, – были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей». Его будоражил их внешний вид: «голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой».
В бытовом плане Саша Гриневский достиг своей мечты: в 16 лет, «безусым тщедушным узкоплечим отроком в соломенной шляпе» он увидел, наконец, море. Отец дал ему 25 рублей и адрес своего одесского друга. Виды ослепительно-знойных улиц, обсаженных акациями, знаменитая Дюковская лестница, романтические пейзажи одесской гавани – все это восхищало юношу. «Поначалу единственным моим недоумением, – вспоминает писатель, – было видеть горизонт ближе, чем я ожидал; я думал, что морская даль тянется значительно дальше».
Гораздо дальше оказалась его мечта найти свое место в этой завораживающей стихии. Прием в мореходные классы был уже закончен, а все попытки Александра устроиться матросом встречали лишь насмешки... Несколько месяцев он провел в голоде, лишениях, болезнях, перебиваясь случайными заработками, продолжая упорно добиваться осуществления своей мечты, причем, своими собственными силами. В конце концов, ему все же пришлось обратиться к другу отца, который устроил его матросом на пароход «Платон», курсировавший по маршруту Одесса – Батум – Одесса.
Однако работа матроса абсолютно не понравилась Грину. В ней было слишком много рутины, унижений, физического напряжения, грязи. Силой своего воображения он сумел описать этот труд красиво. Правда, через 25 лет в «Алых парусах» так рассказывал про своего героя – будущего капитана Грэя: «Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор, пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление».
Сам Грин никогда не стал своим для корабельного окружения и не видел возможности когда-нибудь стать капитаном. Хотя ему удалось сделать несколько рейсов, среди них единственное заграничное плавание в египетскую Александрию в 1897 году. Кстати, за границей России Грин так никогда больше и не бывал. Зато морская терминология, матросский быт и нравы плотно вошли в ткань его произведений – что и делало их такими убедительными. Память о морских странствиях осталась не только в груди будущего писателя, но и на груди: татуировка, изображавшая парусную шхуну.
НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ
В конце концов Александр решил еще раз попытать счастье. Передохнув в родной, но нелюбимой Вятке, он вновь устремился за мечтой. Правда, решил сменить море – вместо Черного отправился на Каспийское. Здесь, в Баку, в крупнейшем порту и промышленном городе, пропитанном нефтью, окольцованном нескончаемым лабиринтом трубопроводов, Александр перепробовал множество профессий: был рыбаком, кузнецом, маляром, землекопом, работал в железнодорожных мастерских и морских доках, принимал участие в тушении пожаров на нефтяных промыслах и в забивании свай. Все потому, что матросом его опять не взяли!
Он запомнил легенды нефтяной столицы: «Слышал я, между прочим, что бывали такие обильные фонтаны, когда нефть, давая десятки миллионов пудов в день, переполняла самые большие земляные резервуары, и наступало золотое время для босяков: наспех рылись канавы, чтобы дать нефти направление к нужным оврагам и ямам; рабочие, стоя по живот в этих нефтяных речках, метлами и лопатами прогребали завалы наносимого течением мусора; за дневную работу на таких подземных бешенствах платили по пяти рублей в день и восемь – десять рублей за ночь».
«Анекдот или правда – такой рассказ? В одном месте стали бурить скважину, вдруг ударила желтая жидкость. Но запах почему-то приятен. Попробовали – а это темное баварское пиво; оказалось, что пробурили какой-то обширный пивной погреб, попав в очень большую бочку».
Такие небывальщины только и скрашивали жизнь отщепенца, вечно озабоченного поискам пропитания, каким был Александр в этот период. Невзгоды, болезни, мучительный голод и нестерпимая жажда, а также множество человеческих типажей, встреченных будущим писателем, казалось, могли превратить его в некое подобие бытописателя, каких в то время было немало. Но нет – они лишь закалили Грина в его неизбывной погоне за несбывшимся. В конце концов он сумел переработать все жизненные впечатления в нереальный волшебный мир своих рассказов и повестей. Но до этого было еще далеко.
Кто сказал, что море без берегов – скучное, однообразное зрелище?.. Нет берегов – правда, но такая правда прекрасна.
Александр Грин, «Бегущая по волнам», 1928
Автографическая повесть. ФРАГМЕНТ
«Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников Херсонских мореходных классов — Врановского и Козицкого. Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые; оба поляки, гонористые и вороватые.
Врановский носил матросскую одежду, а Козицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам: носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку; при выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Безусый, розоволицый, с голубыми навыкате глазами, он принадлежал к несколько «бабьей» породе, мне неприятной. С Врановским я сошелся близко.
Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Риголетто»: «Если красавица в страсти клянется…» Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «Если красавица…». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил: как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне «технические» части судна, объясняя сущность ведения корабля по компасу.
Из остальной команды я помню двух братьев-нижегородцев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, оба валялись больные морской болезнью, но их не рассчитывали.
Живое наследие Грина
ТЕПЛОХОД «АЛЕКСАНДР ГРИН»
Отдавая должное писателю и морскому мечтателю, в его честь назван трехпалубный речной пассажирский теплоход. Правда, для этого пришлось обидеть Александра Блока, чье имя он носил при спуске со стапеля в 1984 году. Долгое время корабль служил плавучей гостиницей на Москве-реке у Кранопресненской набережной. С 2012 года лайнер вернулся в круизный флот и выполняет рейсы по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва; Санкт-Петербург – Коневец – Лодейное Поле – Кижи – Белозерск – Мышкин – Москва; Казань – Ульяновск – Самара – Болгар – Свияжск – Мариинский Посад – Нижний Новгород – Кинешма – Плес – Рыбинск – Москва. Теплоход способен принять 112 пассажиров. Его длина – 90,1 метра, ширина – 14,8 метра. Скорость хода достигает 22 км/час. Теплоход «Александр Грин» совершает рейсы и в 2025 году, в год 145-летия писателя.
Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы в насмешку, надо полагать, советовали мне есть грязь с якоря, – будто бы помогает.
Я не раз упоминал о насмешках, об издевательстве. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, – сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни, – той самой, которую теперь испытывал реально. Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен.
Иногда, хлебнув чаю, я плевался: там была кем-то насыпанная соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара.
Если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика, – она летела в угол: неправильно класть шапку на стол.
Я относился серьезно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно, грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей.
Подделываясь к команде, Врановский с Козицким всегда принимали сторону шутников.
Когда чистили «медяшку», то есть медные части судна: поручни, решетки люков, дверные ручки, боцман заставлял меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горела. «Костью чисти, Гриневский», – говорил боцман. «Как костью?» – глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло».
При мытье палубы, которую растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным бранчливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой.
Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили: «Гриневский, прикури от лампадки» (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).
Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, – боцман твердил. «Ты сам-то не понимаешь, что ли?»
Не прошло часа после моего появления на «Платоне», как боцман поставил меня на вахту у сходни. Нельзя придумать занятия легче для новичка, но мое самолюбие было задето, – я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику.
Тогда меня, после обеда, посадили на подвесную к борту доску, рядом с Врановским – соскребать железным скребком старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить «медяшку», мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое «перетягиванье»: пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту мола.
По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы (мозоли). Пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был послеобеденный отдых, он продолжался с 12 до 1 часу дня; этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать.
Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом, – единственно хотел бы я управлять лебедкой.
День проходил знойно, шумно. В 8 часов утра баковый колокол звонил к завтраку (он продолжался полчаса), в 12 – к обеду, в 1 час – на работу. В 6 часов вечера колокол звонил конец рабочего дня, двумя ударами.
Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить; однако не так хорошо, как другие».
Александр Грин, 1932