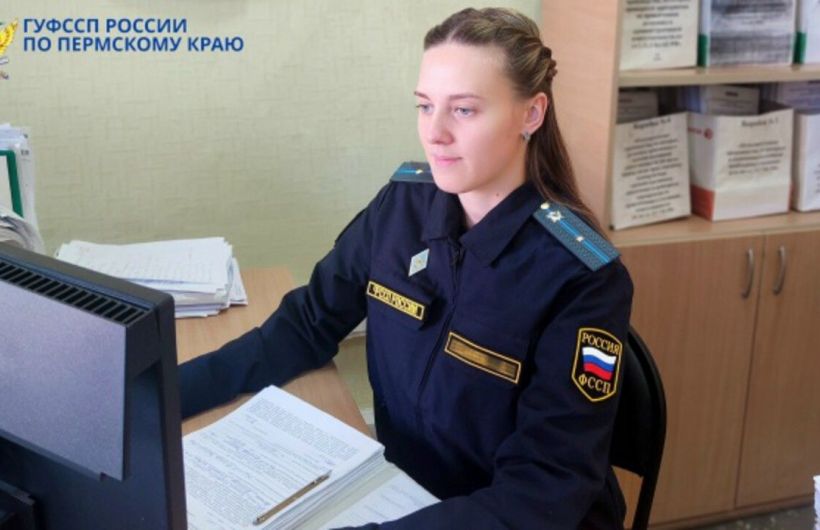Как известно, сегодня классическую драму (или классическую комедию) в театре не сыскать днём с огнём. Все спектакли теперь в основном мультижанровые, в крайнем случае – пластические картины к произведению. Это не хорошо и не плохо, это – следствие мультиинформационного потока современности, в котором только поворачивайся – успевай обрабатывать несущуюся из всех утюгов информацию. А ведь так иногда хочется старого доброго психологического театра с подробно разработанными-прожитыми персонажами, а, главное, с героем нашего времени. Героем, который расскажет об эпохе больше, чем все летописи и мемуары… Который обозначился настолько, что мелькает то тут, то там и даже вот проявился в гоголевской «Женитьбе».
Этот типаж «аутиста» всем прекрасно известен: из дома он почти не выходит, родной диван без причины не покидает, работает, видимо, на удаленке, хоть и упоминает в разговоре «присутствие», то есть, офис. Семьёй, понятно, не обременён.
Как постановщики и заверили нас на сайте, авторский текст пьесы Гоголя сохранён, события происходят в ХIX веке. Но с первых минут действия невозможно избавиться от ощущения, что Подколёсин в исполнении Альберта Макарова – это наш современник, скорее, всего, учёный, философ, а, может, айтишник или, прости господи, блогер, вся жизнь которого проходит в чётко очерченной зоне комфорта, которую не понятно, зачем покидать.

Иван Кузьмич и не собирается. Утопает в своём диване, точно птенчик в гнезде, озирается на сваху Фёклу Ивановну (Евгения Барашкова) да на Кочкарёва (Александр Гончарук) – помните, «Кочкарёв – чёрт!», – но из деликатности с ними не спорит, конфузится и, наступив на горло собственной песне, то есть, зоне комфорта, послушно отправляется к предполагаемой невесте.
Сценическое пространство в «Женитьбе» Театра-Театра организовано так, что мы одновременно видим два совершенно разных мира. И с самого начала уютный мягкий мир Ивана Кузьмича, завернувшегося в халат среди пыльных книг, глобуса и подслеповатых светильников (художник по свету – Евгений Козин, автор музыкального оформления – Владислав Толецкий), значительно выигрывает в сравнении с хайтековской унифицированной белой студией Агафьи Тихоновы. Да и сама хозяйка студии (Анастасия Демьянец), бегающая из угла в угол на каблуках в пышном платье и хлопающая глазами-пуговицами, напоминает механическую куклу.

Бросив таким образом камешек в огород армии однотипных телешоу, сценограф спектакля Симон Пастух практично использует этот «телевизор» для парада женихов, которые смотрятся точно в передаче «Давай поженимся!». Сцены с женихами, разбирающими достоинства невесты и статусное положение друг друга (на них без слёз, как говорится, не взглянешь) – самые захватывающие в спектакле. Коллежский асессор Яичница (Сергей Семериков) всё норовит проверить список приданого, отставной моряк Жевакин (Александр Сизиков) переживает, «в теле» ли девушка, бывший военный Анучкин (Алексей Корсуков) требует от второй половины непременного знания французского, которому сам не обучен, а торговец по суконной линии Стариков (Александр Аверин) почти сразу опрометью бежит от «спесьеватого» общества.

На первый взгляд «Женитьба» Гоголя в новой постановке ТТ (художественный руководитель и продюсер проекта – Борис Мильграм) – типичная продукция интертеймент с массой комичных моментов и сцен, откровенно призванных развлечь зрителя. Например, классическое «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмич, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй прибавить к этому дородности Ивана Павловича…» авторы спектакля воспроизводят буквально на внушительном цифровом экране прямо над сценой – сконструированное нейросетью лицо (видеохудожник – Пётр Марамзин), как мы и подозревали, выходит чучело чучелом, как того и требует комедия положений.
Но за внешним комизмом нет-нет да проступит тень кризиса святая святых – самого института брака и (не побоюсь этого слова) пропагандируемых отовсюду семейных ценностей. Этот кризис не только в том, что, как мы видим, наступает «время одиночек» и симпатичные загадочные интроверты Подколёсины, чудом размножившиеся на своих диванах в ХХI веке, в отношениях не заинтересованы. Проблема в том, что сколько ни рекламируй семью, многодетность, законный брак, которые, в общем, в рекламе и не нуждаются, насильно сделать счастливым, как известно, никого нельзя...

И когда гоголевские персонажи дефилируют-ковыляют под занавес первого действия по авансцене под всполохи эффектного цифрового дождя (вот он, смех Николая Васильевича сквозь самые что ни на есть слёзы), это чувствуется как-то особенно остро. И наш герой Подколёсин за полчаса до свадьбы бежит восвояси, буквально выпрыгивая в окно.
В спектакле Театра-Театра это метафорическое в своей многозначности окно можно трактовать, как угодно. Для книжного червя Ивана Кузьмича открывшийся проём – портал уютной частной жизни, в какой-то мере – «внутренняя эмиграция» человека, не желающего в общий «счастливый» строй. Поэтому и хохочет в финале сваха над ошалевшим Кочкарёвым: «Да, поди ты, вороти! Ещё если бы в двери выбежал – ино дело…».
И как-то сразу после этих слов становится, мягко говоря, не смешно. То ли от того, что Агафья Тихоновна так выразительно стоит столбом, не плачет, то ли потому, что окно всё сужается и сужается…